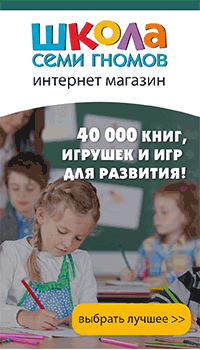Кудрявцев В.Т. Игра и развитие воображения ребенка: взгляд с позиций культурно-исторической психологии
Кудрявцев В.Т. Игра и развитие воображения ребенка: взгляд с позиций культурно-исторической психологии // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2011. – №1. – С.32–43.
Кудрявцев Владимир Товиевич – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории психологии Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ.
Для цитирования: Кудрявцев В.Т. Игра и развитие воображения ребенка: взгляд с позиций культурно-исторической психологии // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2011. – №1. – С.32–43.
…Идея, ставшая аффектом, понятие, превратившееся в страсть: прототип этого спинозовского идеала в игре, которая есть царство произвольности и свободы.
Л. С. Выготский
О том, что игра и развитие воображения связаны «по определению» или даже «по существу», знает любой студент-психолог. Вместе с тем эта связь не является столь очевидной, как может показаться на первый взгляд. В этом убеждает подход к проблеме с позиций культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, где она, собственно, и была впервые содержательно поставлена, хотя предпосылки для такой ее постановки мы обнаружим в философско-психологических теориях воображения и игры в широком диапазоне авторства: от И. Канта до Дж. Сели. Но именно внутри не(о)классической психологии Л. С. Выготского – анализ теоретико-методологической специфики которой выступает предметом исследований кафедры теории и истории психологии Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ, – данная проблема была осмыслена как проблема развития личности или точнее – личностного роста ребенка.
Не(о)классическая психология игры
Почти полвека назад, в октябре 1964 г., в Москве состоялся cимпозиум по психологии и педагогике детской игры, организованный Институтом дошкольного воспитания АПН РСФСР. Этот симпозиум стал уникальным событием в истории наук о детстве, в его работе приняли участие ведущие советские психологи и педагоги – А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, А. П. Усова, Ф. И. Фрадкина, Р. И. Жуковская и др., а тексты выступлений некоторых из них затем вошли в хрестоматии. С тех пор попыток комплексного обсуждения природы и путей развития детской (дошкольной) игры в нашей стране не предпринималось.
Тем не менее и позднее ставилась задача подступиться к анализу феномена человеческой игры (не только – детской) как целого, причем с позиций различных научных дисциплин – психологии, педагогики, философии, социологии. Возможной базой для их консолидации являются теоретические представления об этом феномене, выработанные в русле «неклассической», по выражению Д. Б. Эльконина, психологии Льва Семеновича Выготского. Впрочем, психологию Выготского правильнее было бы назвать не(о)классической. Ведь Даниил Борисович противопоставил ее традиционной («старой» – в терминологии Выготского) психологии, которая в своих развитых, завершенных, классических формах – от «психологии сознания» до бихевиоризма – выработала свой объяснительный ресурс. Выготский в этом смысле, конечно, – не классик-выразитель типичного духа науки первой трети XX столетия, а неоклассик, классик современной психологии.
Вернемся к октябрьскому симпозиуму 1963 г. На его заседаниях развернулась примечательная дискуссия, отголоски которой звучат и поныне. Одни ее участники настаивали на том, что «игра является чисто педагогической формой, ...созданием педагогики и педагогов. Она исторически сложилась и развивалась для управления формированием детей» (Г. П. Щедровицкий). Другие участники дискуссии, критикуя эту позицию, указывали на неправомерность игнорирования специфики игры как формы детской самодеятельности и собственных законов ее развития (А. В. Запорожец, Ф. И. Фрадкина).
Думается, за этой дискуссией стоит реальное противоречие игры, одновременно понимаемой и как культурное творение, и как «факт личной биографии» развивающегося человека. Это – противоречие между жизненной необходимостью «врастания» ребенка в человеческий мир с его исторически заданным порядком и не менее жизненным стремлением ребенка к свободе, которую он может обрести лишь в этом же мире. Ни осознать, ни познать подобную необходимость (во всяком случае, в рациональном плане), получив взамен желанную свободу, ребенок пока не способен. И тут на помощь к нему приходит игра…
Тот же Г. П. Щедровицкий вынужден был сделать весьма примечательную оговорку: «Как особая педагогическая форма игра определяется массой разнообразных факторов, действующих в разных направлениях и с разной «силой». Это и производство игрушек, определяющееся часто не педагогическими, а экономическими или идеологическими факторами, и архитектурно-планировочная деятельность в строительстве детских садов и яслей, и условия работы воспитателей в детских садах, и программы обучения в педучилищах и специальных школах, и традиции отношения взрослых к детским занятиям, и многое другое. Из-за обилия всех этих факторов, влияющих на игру, она как педагогическая форма оказывается плохо управляемой и начинает «жить» по стихийным законам, нарушающим общую систему «инкубатора»».
Но только ли в стихийности дело, только ли влияние ближайших факторов выводит игру из-под педагогического «контроля», делает ее «плохо управляемой»? Нет ли в этой стихийности и невозможности жестко управлять игрой определенной закономерности?
Безусловно, игра является искусственным образованием, «социальным изобретением» (по терминологии М. Мид). Однако в этом качестве она обнаруживает себя в разных формах, которые нуждаются в различении. Рассмотрим это на примере традиционных игр (ТИ).
«Искусственное» происхождение ТИ очевидно, когда речь идет о педагогическом руководстве игрой, изготовлении игрушек, создании игр-упражнений, тем более – дидактических игр. Здесь отчетливо прослеживается «формирующая» направленность ТИ, выраженная в той совокупности конкретных знаний, умений и навыков, которую воплощает в играх и игрушках взрослое сообщество. Так, на обширном историко-этнографическом материале Д. Б. Эльконин показал, что использование детьми северных народов простейших игрушек позволяет им присваивать ряд общих сенсомоторных способностей, необходимых затем для овладения конкретными трудовыми умениями и навыками. При этом игровой характер детской деятельности естественным образом сочетается с ее утилитарно-обучающей ориентацией. Тем самым наблюдается некоторая общая тенденция: применительно к исторически ранним формам ТИ не всегда удается провести однозначную грань между игрой, учением и трудом.
В дальнейшем подобные игрушки продолжают выполнять те же функции, одновременно приобретая новые. Типична в этом отношении история стрельбы из лука.
Первоначально лук использовался как орудие охоты и боевое оружие. Когда на смену луку пришло более совершенное боевое оружие, его по-прежнему продолжали брать на охоту. Затем он оказался вытесненным и из сферы охотничьего быта и стал использоваться лишь в соревнованиях и играх. Исследователь дагестанских ТИ Ш. Ахмедов пишет, что «их содержание… менялось в зависимости от условий жизни горцев. Так, лук и стрела, применявшиеся в играх в древности, были заменены затем кремневым оружием, берданкой и т. д. (стрельба на скаку и т. д.). Стрельба из лука в тот период превратилась в чисто детскую игру».
Однако и позднее дагестанские сельские дети, прежде всего жители горной местности, овладевали через лук рядом умений и навыков, необходимых для жизни в специфических природно-географических условиях. Передача этих умений и навыков инициировалась взрослыми и служила неотъемлемым элементом социализации подрастающих поколений. Ребенок овладевал луком, и взрослые были крайне заинтересованы в том, чтобы он владел им в совершенстве.
Но вот появилось огнестрельное оружие. Лук по-прежнему остается в руках детей, но теперь действие с ним уже непосредственно не связано со способами охоты, и упражнения с луком используются для развития некоторых качеств, например меткости, необходимых охотнику, пользующемуся и огнестрельным оружием».
Но на этом этапе стрельба из лука начинает выполнять и более общую функцию, выступая как особая форма инициации мальчиков. Умение метко стрелять – здесь не просто конкретное умение, а критерий социальной зрелости будущего мужчины – защитника и добытчика. Поэтому отношение взрослых и детей к стрельбе из лука в условиях обществ данного типа всегда отличалось ответственностью и серьезностью, а соответствующее умение обладало особой педагогической ценностью.
Иная картина наблюдается в сообществах современных, в том числе – городских, детей. Известно, что и там бытуют традиционные игрушки: например, тот же лук или «родственная» ему рогатка. Однако в данном случае традиционные игрушки (их модификации) выполняют особые функции. С точки зрения решения задачи трансляции определенной совокупности специальных умений (пусть даже в игровой форме), они уже оказываются практически нефункциональными и даже избыточными. Действие с ними не носит характера игр-упражнений. В условиях современного города традиционные игрушки становятся материализованными, предметными посредниками смысловой коммуникации внутри детского сообщества, что далеко не всегда поощряется и поддерживается взрослыми.
Игра – не просто трансляция детям и осмысление ими исторически заданных «канонов взрослости» (как это получается у Д. Б. Эльконина). Игра – одновременно проблематизация детьми этих «канонов», через которую происходит их самоопределение внутри общественно-культурного целого: и в качестве особой возрастной страты, и в качестве новой генерации, и в качестве (на более поздних этапах исторического развития) обладателей личности. В игре происходит не санкционируемая обществом инверсия нормативных образов взрослости. Это характерно уже для игр детей – представителей традиционных культур. Так, например, в сообществе детей австралийских аборигенов бытуют игры-драматизации, где играющие пародируют сакральное – ритуал похорон или поведение стариков. Показательно, что взрослые не поощряют, но и не пресекают подобных игр. Мудрость культуры…
Эта противоречивость игры всегда находилось в поле внимания Л. С. Выготского – даже тогда, когда игра выступала для него не «фигурой», а «фоном» в ходе анализа других проблем детской психологии. И именно Выготский наметил общее направление его разрешения в русле своей не(о)классической психологии.
Но разве сказанное справедливо только в отношении ребенка? Разве не самой трудной творческой задачей для художника является свободное и продуктивное самоопределение в художественном каноне? Решение этой задачи протекает в форме своеобразных «игр с каноном», которые иногда превращаются в самобытный авторский стиль, как это было у Сальвадора Дали. Разве не итогом грандиозных «игр ума» (‘mind games’) оказывается постижение универсальных законов мироздания, содержание которого свободно вбирает в себя научная мысль, как свидетельствует о том хотя бы биография Эйнштейна? Разве не «игры возможностями» позволяют обычному человеку прийти к началу того необходимого жизненного пути, на котором он встретит свою действительную свободу?
А действительная, адекватная объективной необходимости свобода, по Выготскому (с «подачи» Аристотеля и Спинозы), непременно предполагает свободу владения собой, своим субъективным миром, свободу от сиюминутных импульсов внешнего или внутреннего происхождения. Это – свобода «создания новых форм поведения», как определял Выготский на психологическом языке своего времени понятие творчества. И такую свободу дарует человеку уже игра, которая потому и становится источником развития творческих способностей, прежде всего – способности к личностному росту.
Как писал Й. Хейзинга, игровое начало атрибутивно культуре. Это обстоятельство в значительной степени затрудняет решение задачи идентификации субъекта игры. Видимо, «всеохватность» культуры игрой заставила Х.-Г. Гадамера (в соответствующих местах он прямо ссылается на Хейзингу) увидеть этого субъекта в… самой игре, которая «воплощается» в играющих, заставляет их жить и действовать в своем собственном ритме (не правда ли, очень похоже на знаменитую формулу В. фон Гумбольдта «не люди овладевают языком, а язык овладевает людьми»?). Конечно, здесь сказались и герменевтические установки автора, которые позднее были переняты и «ужесточены» создателями постмодернистских концепций игры.
Об этом приходится вспомнить, т. к. в современных, преимущественно западных источниках Выготского стали неожиданно причислять к предтечам постмодернизма. Даже если это мотивировано стремлением «вписать» концепцию Выготского в «мейнстрим» гуманитарного знания, то – ценой очевидного прегрешения перед истиной. Ведь в противовес постмодернизму, который провозглашает «смерть субъекта», лейтмотив «не(о)классической» психологии Л. С. Выготского – тема порождения человеком в содействии с другими людьми своей субъектности, фундаментальной инстанции человеческой личности. Культурным средством, а отчасти и механизмом ее порождения служит игра.
Игра – ее очевидный и неочевидный вклад в развитие воображения
Положение о связи игры – ведущей деятельности в дошкольном возрасте, с развитием воображения – центральным психическим новообразованием этого возраста, после работ Л. С. Выготского является пока неоспоримым и принятым подавляющим большинством исследователей. Действительно, игра и воображение – своего рода «близнецы-братья». Их «кровные узы», генетическое родство обычно связывается со знаково-символической функцией. В плане игры создается мнимая ситуация, а в плане воображения она разрешается. Этот момент так или иначе акцентируется во всех классических работах по проблемам игры – Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконина. Но столь ли уж все просто и однозначно? Ниже я попытаюсь показать, что объяснение природы воображения, равно как и природы игры, через понятие «мнимой ситуации», является, как минимум, неполным. А пока приведу пример, казалось бы, из совсем другой области.
В первой половине 1990-х гг. смоленский психолог В. В. Степанова обнаружила примечательный факт. Она исследовала особенности первоначального формирования умений каллиграфии у детей из подготовительной группы и детей-первоклассников. И те, и другие испытывают при этом определенные трудности – многие, наверное, помнят, как давалось поначалу чистописание. Есть такая шутка, что почерк выправляет только компьютер. Но одни дети осваивают новый навык быстрее и безболезненнее, а другие – медленнее и с большими проблемами. В. В. Степанова обследовала оба контингента детей с помощью тестов Е. Торренса, направленных на оценку уровня развития творческого воображения. Выяснилась очень интересная картина: дети, которые испытывают трудности в освоении умений чистописания, имеют низкий уровень развития воображения; наоборот, дети, которые успешно осваивают эти умения, обладают сформированным воображением.
Возникает вопрос: как же соотносятся эти, казалось бы, столь разные (если не сказать – полярные) явления? Ведь налицо явный парадокс. Чистописание – это результат следования образцу, инструкции взрослого, умения подчинять свое действие его воле, а иногда и «жесткой» руке. Воображение же – нечто противоположное: воплощение абсолютной свободы – полет фантазии, не скованный никакими ограничениями, способность спонтанно создавать миры, не имеющие эквивалента в действительности, его продукты (новые образы) хрупки и не воспроизводимы.
Создание новых образов – лишь одна из функций воображения, кстати, не столь очевидная и однозначная, как может показаться на первый взгляд. Во всяком случае, «порождение химер» – далеко не единственный и даже не самый показательный пример работы воображения. Другая важнейшая функция воображения, по словам Э. В. Ильенкова, проявляется прежде всего в способности смотреть на мир (включая самого себя и в первую очередь – самого себя) «глазами другого человека», шире – всего человеческого рода, что нам дает возможность видеть мир по-настоящему интегрально. Это и имел в виду французский просветитель Д. Дидро, который когда-то назвал воображение «внутренним глазом» (вспоминается Ф. М. Достоевский и его «око души»). Кант, Фихте и Гегель в своих трудах, по сути, дали содержательное обоснование этой простой и точной метафоры.
Именно благодаря воображению личность каждого из нас в детстве первый раз испытывает своеобразное непатологическое «раздвоение». Собственно это и ведет к рождению личности в строгом смысле слова. Внутри нас формируется «внутренняя позиция», в нас «вселяется» образ Другого. Этот образ носит обобщенный характер, не совпадая с образами конкретных людей, вовлеченных в круг непосредственного общения с нами. Он не сводится к «виртуальной» совокупности эмпирических точек зрения разных людей, и поэтому, решая какую-либо задачу, совершая какое-либо действие, нам не приходится условно подставлять себя на место каждого из них (Э.В. Ильенков). Да и вообще, вопрос: «Что скажет княгиня Марья Алексеевна?» задан не от имени личности… Решая задачу в одиночку, благодаря воображению, мы не чувствуем себя одинокими, а, приходя к решению, испытываем уверенность в его правильности еще до проверки (анализа) того, что получилось. Ибо здесь мы получаем «подсказку» из рук «обобщенного Другого» (термин американского психолога Дж. Г. Мида), воплощающего не только опыт, но и творческий потенциал человеческого рода в целом. Субъективно момент получения такой «подсказки» переживается как интуитивное прозрение, «озарение свыше».
Этот «обобщенный Другой» сразу или со временем начинает дифференцированно выполнять функции внутреннего Партнера (содействие), Хозяина и Контролера – «царя в голове» (произвольность), Вдохновителя (эмоциональная поддержка), Собеседника (внутренняя речь), Единомышленника (рефлексия), Высшего Судьи (совесть), Соавтора (творчество) и иные важные функции. Но самое главное: он позволяет нам заново открывать «необыденные миры» не только в повседневной реальности, но и в нас самих. Силой воображения при содействии «обобщенного Другого» мы превращаем нашу обыденную психическую жизнь, казалось бы, уже обжитую территорию собственного Я в “terra incognita” – неосвоенную землю, которую только предстоит освоить, в нечто необыденное и даже чудесное, становясь на путь самопреобразования. Тем самым «обобщенный Другой» становится соучастником (посредником) нашего личностного роста, а личность, по словам А. Ф. Лосева, и есть чудо.
Онтогенетический прецедент подобного «раздвоения Я» мы наблюдаем в сюжетной игре. (Понятие онтогенетического прецедента я ввожу для обозначения тех случаев, когда та или иная психическая функция впервые появляется в картине развития в своей системообразующей форме, т. е. с известной точки зрения определяет способ преобразования психического мира человека как целого, а не отдельные изменения, которые в нем происходят.) Обратимся к хрестоматийному примеру.
Ребенок скачет на палочке, как на лошадке. Комментируя этот случай, авторы учебников утверждают: ребенок в символическом плане перенес свойства лошадки на палочку – это и есть работа воображения. Однако, на мой взгляд, эта «работа» не исчерпывается операцией знаково-символического замещения. Творческая задача для ребенка не в том, чтобы «увидеть» в реальной палочке несуществующую лошадку. Палочка – лишь удобный инструмент решения иной, более широкой, требующей усилий творческого воображения задачи. Оседлывая ее, ребенок должен не просто изобразить езду, а вжиться в образ другого человека – наездника. И именно в этом качестве палочка действительно становится «волшебной». Ее «мановением» рождается новая, необыденная (вовсе не только условная) реальность.
Игровая ситуация никогда не сводится к взаимодействию субъекта с объектом. В ней сливаются друг с другом два действующих лица, два субъекта, хотя один из них виртуален. Не просто изображающий и изображаемый. Точнее сказать: играющий и его герой как произведение и альтер эго играющего. «Герой» игры обладает не фиктивной, а вполне реальной силой. При его участии (посредничестве) происходит грандиозная трансформация детской картины мира, прежде всего – на основе радикального изменения образа самого себя и своих возможностей. По мере этого и воображение выступает как способность сконцентрировать виртуальную силу другого (других) в одном-единственном действии, при решении одной-единственной задачи. Поэтому ребенок с развитой фантазией легко преодолеет эгоцентризм, диффузную нерасчлененность и узость мировосприятия, сумеет включиться в учебную ситуацию, видя «со стороны», что и как надлежит делать, стеснительность, неадекватную самооценку. Он никогда не погрязнет в собственных страхах при освоении новых действий и т. п. Ведь его соавтором и советчиком будет все человечество, пусть он об этом и не догадывается (что упрочит столь необходимое ребенку чувство «базисного доверия к миру», по терминологии Э. Эриксона). Такой ребенок жизнерадостен и открыт к миру, но вместе с тем очень избирателен и критичен. Прежде всего – к самому себе.
Воображение избавляет ребенка, да и взрослого от внутреннего одиночества. Человеку «с воображением» интересен не только окружающий мир, но и другие люди, а главное: он сам. С этим отчасти связана, например, острейшая проблема подросткового алкоголизма и наркомании, иных ранних аддикций. Растущий человек, у которого сформировано воображение, не нуждается во внешних «допингах».
Это не значит, что развитие воображения – панацея. Но это, безусловно, – ключ к решению многих психологических и педагогических проблем. Отсюда – и значение игры в детском развитии.
На наш взгляд, именно в этом контексте и следует понимать слова Л. С. Выготского о том, что игра – «девятый вал» детского развития, на гребне которого ребенок становится на голову выше самого себя. А мы, скорее, трактуем концепцию игры Льва Семеновича (не без влияния А. Н. Леонтьева) в духе Ж. Пиаже, т. е. всецело сквозь призму представлений о знаково-символической функции, создании мнимой ситуации при построении игрового действия, т. е. интерпретируем – весьма однобоко, если не сказать больше… А ведь для Выготского игровое замещение было только психотехническим средством расширения ребенком собственной перспективы развития. В эту перспективу «силой воображения» вовлекается и в ней же преобразуется, сжимается, спрессовывается (если следовать Д. Б. Эльконину) опыт общения других людей: мотивы их действий, замыслы, догадки, переживания и др. – реальность чужого, а вернее иного, бесконечно великого духовного и душевного мира, который в итоге становится моим. И тогда получится, как у А. де Сент-Экзюпери. Память о золотых волосах Маленького Принца заставит прирученного им Лиса полюбить шелест колосьев на ветру – до того Лису совершенно безразличных. Ведь сами эти колосья будут символизировать для него далекого друга.
Конечно, бывает и так, что на практике игра целиком сводится к своей операциональной основе – процедуре знаково-символического замещения. Ребенок свободно замещает все всем, но у него не возникает обобщенного образа Другого, ради чего, собственно, эти замещения и совершаются. Для констатации этого не нужно быть психологом, достаточно присмотреться к сюжетным играм современных детей. Они умеют хорошо «замещать», но зачастую не способны эмоционально вжиться в образ того, кого это «замещение» призвано вызвать к жизни, да что там – просто построить этот образ! Говоря на обыденном языке, дети играют «без отдачи». Это – игра без воображения, точнее квазиигра, ей все чаще уступает место подлинная игра. Нечто внешнее напоминающее игру по форме, но, по очень точной характеристике Е. Е. Кравцовой, не являющееся таковой по содержанию,. Помимо всего прочего, сейчас на воспроизводство таких «квазиигр» фактически нацелена вся индустрия детских развлечений – зрелищная, массмедийная, компьютерная, промышленная и т.д.
Детское воображение – не продавец и не покупатель, а производитель. Конечно, оно опирается на символическую функцию, но при этом «видит» в своих объектах самобытные целостности, связанные не символически, а содержательно, по существу. Производя взаимопревращение объектов, воображение не разрушает эти целостности, а перестраивает их по особым законам.
Более того, воображение само создает себе «опору» в виде символической функции, служит ее основой. Ведь именно оно (ребенок при его посредстве) придает смысл условному переносу свойств с одной вещи на другую, диктует целесообразность символического замещения одной вещи другой. В игре ребенок берет в руки надувной круг и вращает его как руль не потому, что круг и руль обладают одинаковой формой (по крайней мере, не только и не столько поэтому), а потому, что воображает себя водителем. Надувной круг символизирует для него не просто руль и даже не просто автомобиль. Он символизирует ситуацию вождения в целом: со всеми скоростями, поворотами, обгонами, стоянками на светофоре и в пробках, заправками на бензоколонках, общением с прочими «участниками движения», представителями ГИБДД и пешеходами – ситуацию, в центре которой находится, естественно, сам водитель. В конце концов, если под рукой не будет круглого предмета, подойдет другой, скажем, спинка стула. Игрового характера действия и его смыла это не изменит.
Впрочем, мы другими словами практически лишь пересказали то, что более 100 лет назад написал один из пионеров психологического изучения детства Дж. Селли (1901), но за этот срок не утратило актуальности. Современными психологами Селли обычно упоминается как исследователь, который впервые связал суть детской игры с принятием и выполнением роли. Нам важно сделать особый акцент на утверждении Селли: разыгрывание ролей предполагает «более сильную и более обширную деятельность фантазии», по сравнению с той, что мы обнаруживаем в простой отобразительной игре с предметами. Эта «деятельность» выливается в «создание нового положения», новой ситуации (в нашем случае – ситуации вождения), в свете которой действительность приобретает новый смысл (см. рис. 1).
Рис. 1. «Ядро» детской игры (по Дж. Селли)
Бессмысленные же переносы и замещения свидетельствуют лишь о том, что они совершались без «участия» воображения. Хорошо известно, что к приемам такого «замещения» нередко прибегают взрослые, пытаясь обучать дошкольников и младших школьников, как им кажется, в «игровой форме». На занятиях «учителей» и «учеников» начинают «замещать» зайчики и мишки, которые считают, читают, составляют рассказы по картинкам… Возможно, эти персонажи в каком-то смысле ближе детям (правда, от этого им не становится «ближе» то содержание, которое предлагается для усвоения, да и не очень ясно, почему взрослый, сопровождающий ребенка на жизненном пути
с момента рождения, вдруг становится для него более «далеким» и менее понятным, чем… какой-нибудь Годзилла). Но при чем тут игра, при чем тут воображение?
Итак, мы хотели бы еще раз обратить внимание читателя на главное: сведение воображения к одной из его составляющих – операции знаково-символического замещения является принципиальным, но, увы, доселе повсеместно распространенным психологическим предрассудком. Между тем, замещающий предмет зачастую индифферентен по отношению к природе замещающего (и наоборот), а ребенок соотносит их по сугубо произвольным основаниям. Предметы лишь «кивают» (О. Мандельштам) друг на друга своими известными, случайно выделенными свойствами, и ничего существенно нового в них ребенку не открываются. Задачи «на замещение», как правило, не требуют от ребенка продуктивной активности, их решения легко шаблонизируются в отличие от творческих решений – всегда уникальных и невоспроизводимых.
Ситуацию «игры без воображения и творчества», игры-имитации, построенной всецело на замещении мы попытались воссоздать в специальных экспериментах. Детям шестилетнего возраста предлагалось перечислить возможные способы употребления ластика (типичное гилфордовско-торренсовское задание). Большинство ограничивались указанием на «традиционный» способ употребления ластика – стирание карандашных линий. Тогда внимание детей обращалось на заранее приготовленный игрушечный столик, за которым сидели куклы. Однако на столике отсутствовала посуда. Экспериментатор говорил детям, что куклам пора обедать, но есть им не из чего. Затем он клал ластик перед одной из кукол и спрашивал детей, может ли он быть использован в качестве чашки. Получив утвердительный ответ, экспериментатор вновь просил детей назвать или продемонстрировать возможные способы использования ластика. Дети без особого труда «замещали» ластиком тарелку, ложку, вилку, супницу и т. д. После этого стол убирался и экспериментатор опять предлагал детям придумать разные способы употребления ластика в условном плане. На сей раз зона предметно-игрового замещения расширялась – дети свободно «замещали» ластиком различные предметы: самолет, пирожное, шапочку (один ребенок для убедительности даже положил ластик себе на голову), комнатный цветок и т. д., ничуть не задумываясь об объективных основаниях такого замещения, что вполне естественно. Затем экспериментатор говорил детям: «Так ластик можно использовать в игре, понарошку. А как его можно использовать в действительности, по-настоящему?» В ответ дети снова ограничивались указанием на «традиционный» способ использования ластика.
Здесь – и новый поворот старой темы «игра и обучение». Полученные нами результаты ставят под сомнение нередко преувеличиваемый дидактический потенциал игровой имитации. Стремление использовать имитационно-игровой опыт в обучении далеко не всегда оправдывает себя. Иногда приходится наблюдать, как дети буквально «заигрываются» в «замещение», в «перенос свойств», что, однако, не благоприятствует содержательному освоению способов решения тех или иных изобразительных, конструктивных, учебных и иных задач.
Как же можно – с опорой на сказанное выше – прокомментировать данные, полученные В. В. Степановой, относительно связи развития воображения с успешностью в чистописании? Логично предположить, что ребенок затрудняется писать красиво, поскольку не способен увидеть «со стороны», «глазами других» то, что он делает. Ему бесполезно лишний раз «разжевывать инструкцию», бесполезно ужесточать контроль за выполнением задания. У ребенка отсутствует «интегральный взгляд» на себя, основанный на воображении. Этот «взгляд» при благоприятных условиях формируется в дошкольных видах деятельности, в первую очередь – в игре. Словом, это происходит задолго до того, как ребенку начинают целенаправленно прививать какие-либо учебные умения (допустим, те же каллиграфические). Ведь для того, чтобы «следовать» и «подчиняться» – с умом, а не по штампу (как сказал бы Э. В. Ильенков), – нужно разобраться в том, чему следуешь, и войти в образ того, кому подчиняешься. Дабы соразмерить с этим свои собственные возможности. Иначе инструкция останется «китайским письмом», а обучающий (инструктирующий) – непонятной фигурой с непонятными требованиями и претензиями к тебе. Классическая ситуация: людям кажется, что они запутались в проблеме, а на самом деле элементарно не понимают друг друга, не могут наладить общение. Без воображения тут не обойтись.
Определенная часть детей, которые имеют психологические проблемы с чистописанием в начальной школе, в дошкольном возрасте либо испытали дефицит «специфически детских видов деятельности» (А. В. Запорожец), либо не нашли в них материала для развития собственного воображения (в силу их соответствующей организации). Недоигравшие дети едва ли смогут хорошо учиться в школе.
Скажем определеннее: ничто так не препятствует созданию психологического фундамента школьной готовности, как ранняя и форсированная подготовка дошкольников к школе на специальных «тренировочных» занятиях. Аналогичны и источники двигательной неумелости детей, трудности в формировании у них ряда умений изобразительной деятельности, элементарных трудовых навыков. И в детском саду, и в начальной школе педагоги затрачивают колоссальные усилия для того, чтобы компенсировать все это путем интенсивного тренажа, многократного повторения упражнений и т. п. Нередко эти усилия растрачиваются с невысокой отдачей. Просто многие умения и навыки, которые обычно квалифицируются как шаблонные, технические и т.д., уходят своими корнями, как ни парадоксально, в сферу раннего развития творческих способностей. А мы уже в школе, в 7, 8 (и даже более!) лет пытаемся решать те проблемы, причины которых скрыты в четырех- и пятилетнем возрасте. Тогда как «шаблонные» умения производны от различных типов творческих действий ребенка (правда, их выявление и изучение – еще не решенная, перспективная задача психологии развития). Гипотезу о том, что творческое развитие ребенка может обеспечивать психологическую готовность к школе лучше, чем что-либо иное, выдвинули В. В. Давыдов и автор этих строк, и впоследствии она полностью подтвердилась. Накапливается все больше и больше экспериментальных материалов в ее доказательство.
Приведу другой пример. Выдающийся антрополог, этнограф и отчасти психолог Маргарет Мид отмечала тот факт, что дети из промышленных стран Европы и Северной Америки (а Россия тут, видимо, не исключение) выглядят куда более неуклюжими, менее пластичными, чем их сверстники из традиционных обществ Африки, Австралии и Океании. На первый взгляд, это может показаться странным – ведь и наши родители отдают своих детей в спортивные секции и танцевальные кружки, уже в программу детского сада введены занятия ритмической гимнастикой и т. п. Но...
Моторика маленьких представителей обществ, которые иногда называют «слаборазвитыми», в значительно большей степени наполнена человеческим смыслом по сравнению с движениями европейских и североамериканских детей. Символические ритуальные танцы, в которые они сызмальства вовлекаются старшими, являются прежде всего живым способом общения, эмоционально-практического единения с себе подобными. А божества, тотемы – это на деле лишь то, что выступает посредниками в таком общении.
У нас же все начинается с «постановки техники» движений, овладения операционной стороной двигательной деятельности без каких бы то ни было попыток донести до ребенка ее «смысловую нагрузку». (Вспомним распространенную картину: на физкультурных или музыкально-ритмических занятиях педагог буквально «вправляет» руки своим воспитанникам.) Ради чего совершаются эти движения, кому они адресованы, – ребенку остается абсолютно неясно. Его руки, ноги, туловище становятся лишь точкой приложения управляющих манипуляций педагога. Вполне закономерно, что двигательные навыки, приобретенные таким способом, не становятся прочными, они часто разрушаются при необходимости действовать в новых, неординарных условиях. Так и получается, что даже те дети, которые подвергаются длительному «двигательному натаскиванию», в итоге не умеют двигаться. Поскольку в своих движениях никак «не относятся» к своему телу и потому «не соотносят» их с ним.
Воспитать такое «отношение» и научить такому «соотнесению» можно лишь через развитие воображения (на что направлен, в частности, наш образовательный проект «Развивающая педагогика оздоровления»).
Можно возразить: существуют разные виды игр, но, скажем, разве та же дидактическая игра предполагает эмоциональную идентификацию с образом другого человека, связанную с ней работу воображения? Если это – игра, то обязательно предполагает! Уже сам по себе игровой материал – это не просто совокупность предметов с некоторыми материальными свойствами (величиной, формой, цветом и т.п.). Через эти свойства создатель дидактической игры – взрослый – определенным образом обращается к возможностям ребенка, его творение – это скрытое послание, всегда рассчитанное на индивидуальный отклик, а сам процесс дидактической игры – соавторский диалог с ее создателем. Точно так же игры с правилами – не безличная трансляция социальных норм. Дело даже не в том, что сами нормы устанавливались живыми людьми для живых людей, имеют ценностные основания, источники происхождения и границы применимости, значимые для каждого. Игра с правилами всегда предполагает соотнесение образа собственного Я с воплощенным в правилах обобщенным «образом взрослости», т. е. представляет собой «таинство взросления», которое каждый ребенок проживает и переживает глубоко личностно. Именно поэтому расцвет таких игр приходится на конец дошкольного детства – к ним ребенок может придти, уже пройдя известные ступени личностного роста. Именно поэтому дети в них столь эмоциональны и пристрастны: следование правилам иногда приобретает ревностный оттенок, будучи способом уникального самовыражения ребенка в качестве «идеального взрослого». Правила – здесь уже не диктующие нечто извне «социальные посредники». Они становятся инструментами живого, свободного и непосредственного самоопределения ребенка в действительности.
Это также аргумент, который заставляет усомниться в полноте традиционной трактовки специфики игры и воображения через операцию знаково-символического опосредствования (замещения), через создание «мнимой ситуации». Заметим, что такой подход кажется особо правомерным, когда мы обращаемся к источникам и предпосылкам игровой деятельности в более ранних этапах развития. Этот путь избирает, например, Н. Н. Палагина в своей интересной книге «Воображение у самого истока». Автор ищет ростки знаково-символического замещения в предметно-манипулятивной деятельности детей раннего возраста. Но находит ли она тем самым истоки воображения (и игры)? Действительно, в раннем детстве интенсивно разворачивается процесс становления операционно-технической «инфраструктуры» воображения, которое как «развитое целое» складывается лишь в дошкольном возрасте. Кстати, помимо «замещающих» действий, неотъемлемой частью этой «инфраструктуры» служит широкий класс действий, которые Н. Н. Поддъяков объединяет в понятии «детское экспериментирование», а среди этих последних особое место принадлежит инверсионным действиям (от. лат. inversio – перестановка), направленным на преобразование («перевертывание») содержания образцов оперирования человеческими вещами и образами вещей. Истоки же воображения в целом, думается, надо искать раньше и в несколько иной сфере. Где же и в чем же?
Воображение как механизм поиска (образования) смысла
Вторая половина младенчества. Возраст, когда ребенку уже мало, чтобы взрослые лишь демонстрировали ему свои бескорыстные чувства любви, нежности, сопереживания и др. Непосредственно-эмоциональное общение (Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина) постепенно переходит в русло «делового сотрудничества», связанного с решением простейших задачек – вместе поиграть с погремушкой, подтолкнуть партнеру (взрослому) мячик и т. п. Младенец начинает испытывать потребность в оценке своего участия в «общем деле». Разумеется, в оценке положительной, но именно – за дело.
Дальновидный взрослый всегда поощряет и культивирует подобные проявления. Он расширяет круг предметов, с которыми ребенок сможет производить все новые и новые действия. Вот, к примеру, только что приобретенная машинка превосходно подходит для этого. Поиграем с ней: повращаем ее колесики, разгоним, понаблюдаем, как весело мигает ее огонек… И взрослый в подобающей случаю серьезной, дидактической манере пытается организовать деятельность ребенка с игрушкой. Какое-то время внимание младенца приковано к привлекательной и полезной, с точки зрения взрослого, вещи, однако, вскоре оно затухает. И тут-то выясняется, что у новинки имеется «конкурент»… Из всего многообразия игрушек малыш выбирает старенькое и невзрачное резиновое колечко и делает все, чтобы «заинтересовать» им своего наставника. Младенец протягивает к нему ручонку с колечком, размахивает колечком, как волшебным жезлом, перед лицом взрослого. Действия ребенка в чем-то напоминают ритуал, смысл которого скрыт для непосвященного.
Чтобы его приоткрыть, взрослому надо стать «немного» жизненным психологом. Тогда, возможно, он припомнит, как некоторое время назад «занимал» малыша тем самым колечком и под какой яркий эмоциональный аккомпанемент (ласковый разговор, нежные поглаживания по головке и ручкам и т. п.) это происходило. А припомнив, может быть, поймет, что при помощи колечка ребенок стремится вернуть событие того замечательного общения. Колечко для младенца – одновременно и тотем, символ родства со взрослым, и «магический кристалл», сквозь призму которого способна по-новому преломиться человеческая сущность взрослого, и (в чем-то) амулет-талисман, залог постоянства переживаемого эмоционального благополучия. Однако во всех вышеперечисленных функциях предмет неизменно остается инструментом ориентировки и самоопределения ребенка в пространстве внутреннего мира взрослого, которое является лишь сектором их общего «внутреннего мира».
Отказ от машинки в пользу колечка ведет к разрыву заранее намеченной и претворяемой взрослым «линии поведения» в отношении ребенка. Ребенок стихийно оформляет в колечке некоторый знак – «знак» ПРОБЛЕМЫ, которую он фактически ставит перед взрослым. Ведь для взрослого мотив вовлечения этого предмета в ход взаимодействия вовсе не очевиден, а инициативное обращение ребенка к нему через предмет выглядит явно избыточным с позиции норм обыденного («рассудочного») поведения. Взрослый-то руководствовался вполне ясной дидактической целью – вызвать познавательный интерес к новой игрушке и научить младенца каким-то приемам ее использования. И не сумел увидеть главного: неосознанного стремления «обучаемого» сохранить смысл деятельности, найти или придать его ей заново. Между тем, это и есть то необходимое условие, при котором ребенок сможет успешно научиться еще очень и очень многому. Малыш по-своему решал «задачу на смысл» (А. Н. Леонтьев) и справился с ее решением блестяще! Это и требовалось осознать взрослому, привыкшему фиксировать в любой задаче прежде всего познавательные или утилитарно-исполнительские цели.
Позднее «задачей на смысл» становится для дошкольника любая игровая задача. Этот акцент отчетливо проставлен в работах Л. С. Выготского. В работах Д. Б. Эльконина игра (и искусство), по сути, характеризуется как ориентировочно-смысловое звено целостной человеческой деятельности, которое в процессе исторического развития выделилось из нее и стало самостоятельной деятельностью. Порождение смысла как раз и является функцией воображения.
Поэтому игра – не просто способ моделирования социальных отношений, как полагал Д. Б. Эльконин. Для общества игра (как и искусство) выступает выражением смыслового единства и целостности всех человеческих деятельностей. Для ребенка – формой самоотношения, где в смысловом плане строится и условно «апробируется» ближайшая и более отдаленная перспектива его личностного роста. «Моделирование социальных отношений взрослых» является лишь средством решения этой задачи.
Как надо играть взрослым (вместо заключения)
Известный психолог, специалист по психологии игры профессор Светлана Леонидовна Новоселова (к сожалению, ее уже нет в живых) рассказывала о том, как в дошкольном детстве играл ее сын. Однажды он расставил солдатиков и решил устроить сражение. Мама стала интересоваться, «кто есть кто» в этой игре. Сын объяснял: «Вот это – командир, это – его войско, это – войско неприятеля» и т. д. И тут мама задала совершенно неожиданный вопрос: «Ну а ты-то – кто?». Ничуть не стушевавшись, ребенок ответил: «Я им – судьба!»
Простая и точная иллюстрация того, как надо играть. И прежде всего – взрослым людям. Мы расставляем пешки, закрепляем за ними те или иные функции, обговариваем правила игры. Начинаем играть, игра захватывает нас, мы заигрываемся и неосознаваемо срастаемся с этими пешками, растворяемся в их рядах. Когда же осознание приходит, мы, совсем недавно уверенные, азартные и куражущиеся, вдруг теряемся и не находим ничего лучшего, как уповать на судьбу. А кто – судьба и, кстати, судьи? Ребенок точно знает – кто, и совершенно четко противопоставляет себя фигуркам и той ситуации, в которой они очутились. А знаем ли мы?
Любая игра – «игра судьбы». И роль судьбы доверена в ней нам и только нам. Разумеется, если игра инициирована нами, – я обсуждаю лишь этот случай. Да, когда приступаешь к игре, нужно на какой-то момент отождествиться с пешками – иначе игра бессмысленна. Но нужно и вовремя разотождествиться, чтобы определиться с собственной ролью. Разнообразием выбора здесь мы отнюдь не избалованы. К счастью.
Будут и стихи, и математика,
Почести, долги, неравный бой...
Нынче ж оловянные солдатики
Здесь на старой карте встали в строй.
Лучше бы уж он держал в казарме их,
Только на войне, как на войне
Падают бойцы в обеих армиях
Поровну на каждой стороне.
И какая, к дьяволу, стратегия,
И какая тактика, к чертям!
Вот сдалась нейтральная Норвегия
Ордам оловянных египтян;
Левою рукою Скандинавия
Лишена престижа своего,
Но рука решительная правая
Вмиг восстановила статус-кво!
Может быть – пробелы в воспитании
И в образованьи слабина,
Но не может выиграть кампании
Та или другая сторона.
Совести проблемы окаянные –
Как перед собой не согрешить?
Тут и там солдаты оловянные –
Как решить, кто должен победить?
Сколько б ни предпринимали армии
Контратак, прорывов и бросков,
Все равно на каждом полушарии
Поровну игрушечных бойцов.
Нервничает полководец маленький,
Непосильной ношей отягчен,
Вышедший в громадные начальники
Шестилетний мой Наполеон.
(Где вы, легкомысленные гении –
Или вам являться недосуг?
Где вы, проигравшие сражения
Просто, не испытывая мук?
Или вы, несущие в венце зарю
Битв, побед, триумфов и могил?
Где вы, уподобленные Цезарю,
Что пришел, увидел, победил?..)
Чтобы прекратить его мучения,
Ровно половину тех солдат
Я покрасил синим (шутка гения).
Утром вижу – синие лежат.
Я горжусь успехами такими, но
Мысль одна с тех пор меня гнетет:
Как решил он, чтоб погибли именно
Синие, а не наоборот?!
Владимир Высоцкий
Ваша корзина пуста